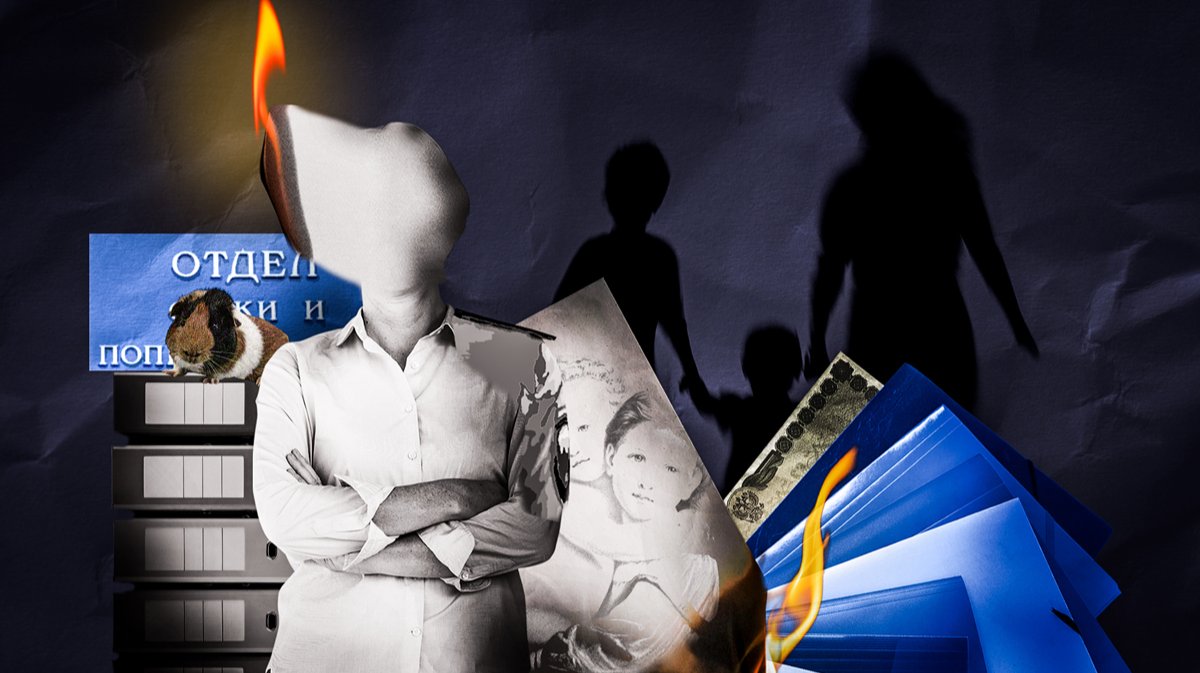Об органах опеки я знаю не понаслышке. В 2016 году я, тогда мама двух кровных детей, удочерила приемную девочку девяти с половиной лет. Хотя это было именно удочерение, органы опеки всегда принимают участие в устройстве приемных детей в семью и некоторое время оставляют такие семьи под своим контролем. Общение с несколькими отделами опеки разных муниципальных округов Санкт-Петербурга вызывало у меня очень разные чувства — от благодарности до гнева и ужаса. Неудивительно, что мне захотелось прочесть книгу «Бездушные бюрократы. Как устроена работа органов опеки», и исследовательница Александра Мартыненко была так любезна, что предоставила мне полный текст.
Исследование Мартыненко — из тех, в ходе которых добросовестный ученый не только живет одной жизнью с изучаемыми людьми, но и полностью усваивает их обычаи и повадки.
Опыт волонтерской работы автора предопределял ее изначальный взгляд на сотрудниц опеки как на «циничных теток». В то же время Александра всегда задавала себе вопрос, почему никто из волонтеров не пытается устроиться в органы опеки, чтобы хоть немного изменить систему изнутри.
Один из ответов оказался очевидным: устроиться туда можно только по протекции. Но даже после того, как это произошло, исследовательнице пришлось преодолеть еще несколько невидимых снаружи барьеров, прежде чем она действительно стала полноправной частью коллектива «девочек» и начала понимать, как устроены их чувства и поведение.
Проработав три года бок о бок с коллегами, «Сашик», как ее звала начальница, описывает их тепло и живо.
Вот Марина. Она выросла в том же районе. Могла бы пойти по кривой дорожке: «Я сидела бухала, курила, мусоров засирала…» Отец насильно заставил поступить в университет МВД. Служила в полиции, перешла в опеку и теперь работает с семьями бывших дворовых друзей. Среди них маргинальные родители, «алкаши и наркоши».
Вот Аня. Обожает морских свинок, лечит их у ветеринара. Работает с попечителями пожилых недееспособных людей. Нередко это их дети, уже и сами люди в возрасте. Аня относится к ним с теплом. «Идеальный бюрократ»: бумаги у нее всегда в порядке.
Даша. Интеллигентная, знающая законы. Когда-то хотела многое изменить, но «потом успокоилась». В метро читает книги. Свои «бюрократические сокровища» — заключения и акты — сохраняет только себе на флешку.
Поддержать независимую журналистику
Руководительница отдела, Елизавета Ивановна. Опытная, умная. Обожает театры, культурную жизнь, туризм. Умело отстаивает интересы отдела опеки в администрации. В спорах между бабушками-опекунами и подростками-опекаемыми нередко принимает сторону последних.
Нормальные люди, неплохие специалисты, скорее симпатичные, чем нет.
Правда, хамят — потому что могут. Безраздельное пользование маленьким ресурсом власти развязывает им руки, а никаких правил поведения, кроме неписаных, не существует. Правда, редко проявляют эмоции, не утешают людей в критических ситуациях. Зачем давать ложную надежду, если ничего не можешь сделать.
Моменты бессилия бюрократии автору удалось передать с большой достоверностью.

Иллюстрация: «Новая газета Европа»
Вот сотрудницы опеки везут на своей машине в больницу ребенка психически нездоровой матери. Ребенка рвет, он в ступоре: позже выяснится, что отравился мамиными таблетками. Врачи не хотят оформлять — не хватает бумажки. Настояв на том, чтобы ребенка взяли, уставшая сотрудница опеки едет обратно на работу. Глава администрации участвует в застолье: в соседнем отделе у начальника день рождения. Сотрудница пытается попросить у него две тысячи рублей на химчистку: ребенок испачкал машину рвотой.
Но такой статьи расходов не существует. И глава советует ей: «Давай мы тебе это как канцелярку возместим. Около метро книжный есть, там часто чеки на канцелярские принадлежности выкидывают. Пособирай там эти чеки ненужные, насобирай на ту сумму, что тебе нужна, и приноси». То есть предлагает ей порыться в урне.
Вот такие условия. Ни полномочий, ни ресурсов, ни специальных знаний, ни времени. В активе у сотрудниц опеки только добрая воля и жизненный опыт, да и то не у всех. Невозможно заставить жестокого отца держаться подальше от детей. Непонятно, что делать с подростком, отбившимся от рук. Нет способов помочь спивающимся мамашам сохранить семью.
Опека не может решить проблемы своих посетителей. Отсюда и пессимизм по отношению к ним.
«К «нормальным» взрослым Елизавета Ивановна обращается «мой хороший», «дружочек», «мамуля», а детей называет «лялями», «ребятенками» и «кабачками». Для описания взрослых и детей (чаще всего подростков), доставляющих опеке лишнюю работу своим «антиобщественным» поведением, Елизавета Ивановна использует более разнообразные лексические средства: «шизнутый», «убогая», «ханыга», «пьянь-перепьянь», «алкаши и наркоши», «блядища», «бабка», «мамаша», «неадекват», «говнище», «пропитуха». Елизавета Ивановна имеет привычку после употребления каждого из этих определений добавлять «прости господи», чтобы сгладить резкое слово».
Исследовательница рассказывает нам о двойственном положении низовой бюрократии, которая «одновременно несет груз власти и груз бессилия», о тех, кто «вынужден день за днем балансировать между долгом и сочувствием, правилами и реальностью, жесткостью системы и человеческой жизнью», где «слова и цифры не спасают, а лишь закрепляют правила не всегда справедливой игры». Да, говорит Мартыненко,
они отшивают посетителей, но видят и трагедии подопечных, стараются сделать максимум возможного. Да, хамят — но и прикрывают, и учат семьи бороться за свои права.
Мартыненко хочет и читателю передать, сообщить свое сочувствие к героиням, в конце предлагая маленькие воображаемые сцены: как завершила день каждая из ее сослуживиц. Начальница собирается на концерт; Марина тащит пьяного брата в кровать; Даша анонимно делится мыслями в блоге; Аня лечит морскую свинку у ветеринара.
Равенство исследователя своему материалу, способность «видеть в каждом человеке не только носителя социальной роли, но и личность, со всеми ее противоречиями и уязвимостью», — единственно возможная позиция для ученого.
Но клиент опеки находится в другой ситуации, и оптика у него должна быть иной.
В лучшем случае это приемный родитель, взявший на себя ответственность за непростого ребенка или детей. Ему (чаще ей) приходится иметь дело со всякими штуками вроде расстройства привязанности, побегов или сексуализированного поведения. Свою энергию, свою эмпатию такой родитель направляет прежде всего на решение этих проблем, на защиту интересов ребенка, а не на понимание сотрудников опеки.
Конечно, он не ждет от них помощи в трудную минуту. Он и так знает, что система бессильна, а сотрудницы стараются и «тоже люди». Но ему бы здорово помогло, если бы они не мешали. Не компенсировали бы свое выгорание хамством (или садизмом — и такое бывает), не предъявляли абсурдные требования, не навязывали свои решения (для работы с приемными и особыми детьми требуются специальные знания, но у сотрудниц опеки часто нет и понимания того, что такие знания существуют).
И это я веду речь о «мамулях» и «дружочках». Что же говорить о тех, у кого давно нет никакой энергии, никаких душевных сил?
Исследование Александры Мартыненко не имеет дела с нормативными суждениями («как должно»). Оно описывает реальное положение вещей («как есть»). Проявляя огромное уважение к тем сотрудникам и сотрудницам опеки, которые вопреки всему выполняют свою работу, по словам исследовательницы, «без надежды на благодарность, без иллюзий о переменах, без права на ошибку», я бы всё же хотела, из другой позиции, назвать вещи своими именами.
Механизмы равнодушия и расчеловечивания, выгорания и отстранения, которые описывает исследовательница, не являются чем-то неизбежным. В них действительно виновата система, а волей-неволей — и те бюрократы, которые становятся ее проводниками.
Я хорошо понимаю, какая травма свидетеля настигает людей, которые вынуждены контролировать семьи, но почти никогда не могут им помочь. Не всегда они в силах спасти детей даже от жестокого обращения, голода, беспризорности.
Сотрудницам приходится несладко. Но ведь семьи, дети страдают сильнее.
Вспоминается книга Анны Клепиковой «Наверно я дурак», в которой та же коллизия изображена еще ярче, так как речь идет о ПНИ, о совсем уж бесправных людях и жестоких злоупотреблениях. И слова моей подруги, которая много лет проработала в интернате для особых детей: если отвязал ребенка от кровати, чтобы чем-то с ним позаниматься, то потом неизбежно будешь привязывать его опять. Такие правила. И чего бы ты ни хотел добиться, как бы ни пытался облегчить участь ребенка — в конечном итоге ты тот человек, который привязывает его к кровати.
Как вовлеченный читатель, я не могла не думать об этом.
Делайте «Новую» вместе с нами!
В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.
Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.
Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]
Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».